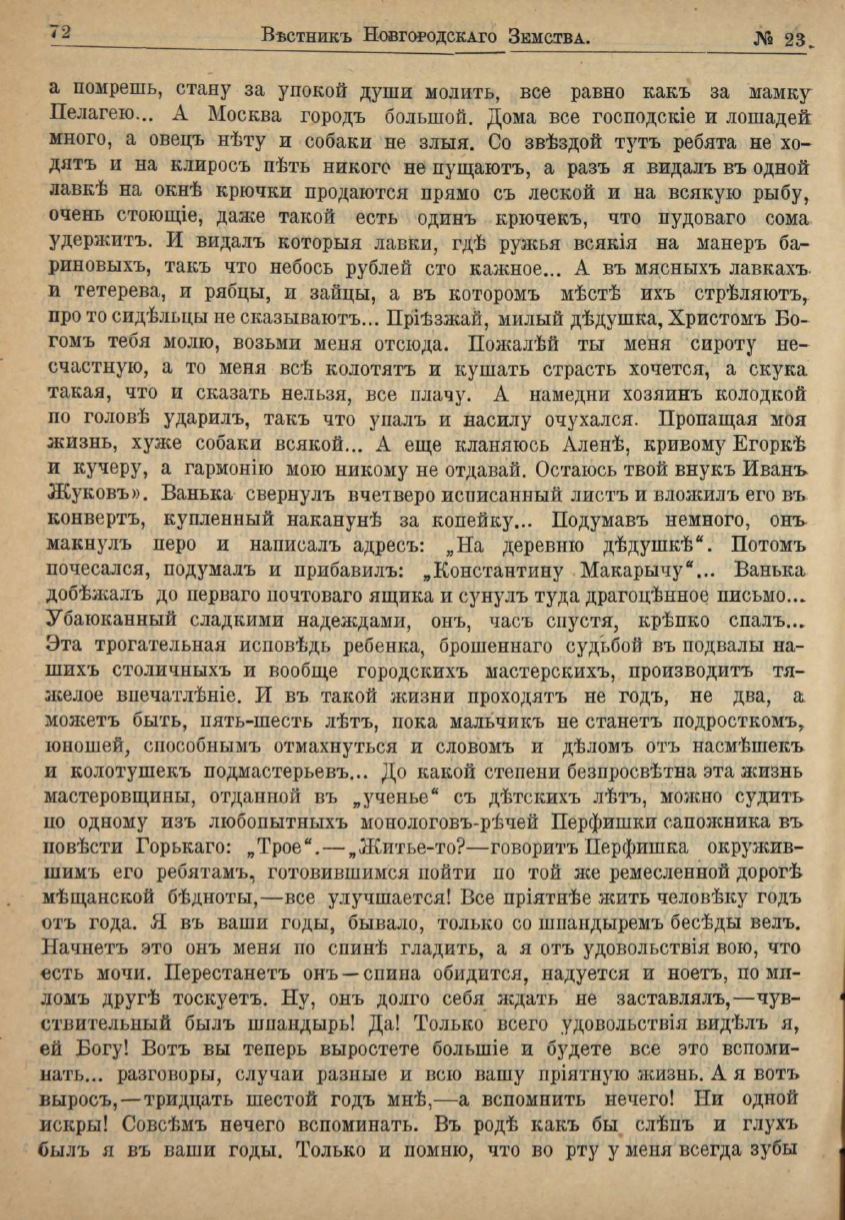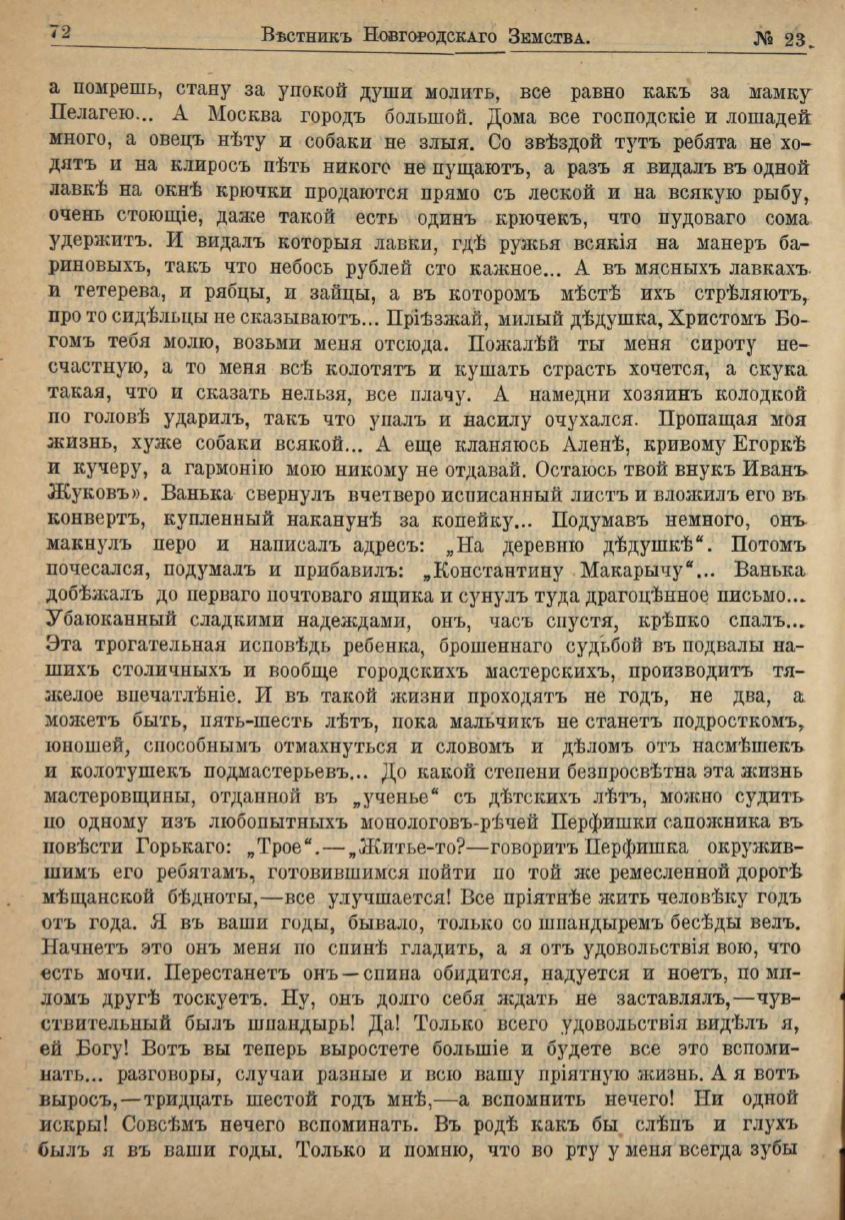
72
!
ВѢстникъ
НОВГОРОДСКАГО ЗЕМСТВА.
in°21.
а помрешь, стану за упокой души молить, все равно какъ за мамку
Пелагею... А Москва городъ большой. Дома все господскіе и лошадей
много, а овецъ нѣту и собаки не злыя. Со звѣздой тутъ ребята не хо-
дятъ и на клиросъ пѣть никого не иущаютъ, а разъ я видалъ въ одной
лавкѣ на окнѣ крючки продаются прямо съ леской и на всякую рыбу,
очень стоющіе, даже такой есть одинъ крючекъ, что пудоваго сома
удержитъ. И видалъ которыя лавки, гдѣ ружья всякія на манеръ ба-
риновыхъ, такъ что небось рублей сто каяшое... А въ мясныхъ лавкахъ
и тетерева, и рябцы, и зайцы, а въ которомъ мѣстѣ ихъ стрѣляютъ,
про то сидѣльцы не сказываютъ... Пріѣзжай, милый дѣдушка, Христомъ Бо-
гомъ тебя молю, возьми меня отсюда. Пожалѣй ты меня сироту не-
счастную, а то меня всѣ колотятъ и кушать страсть хочется, а скука
такая, что и сказать нельзя, все плачу. А намедни хозяинъ колодкой
по головѣ ударилъ, такъ что упалъ и насилу очухался. Пропащая моя
жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Аленѣ, кривому Егоркѣ
и кучеру, а гармонію мою никому не отдавай. Остаюсь твой внукъ Иванъ
Жуковъ». Ванька свернулъ вчетверо исписанный листъ и вложилъ его въ
конвертъ, купленный наканунѣ за копейку... Подумавъ немного, онъ
макнулъ перо и написалъ адресъ: „На деревню дѣдушкѣ". Потомъ
почесался, подумалъ и прибавилъ: „Константину Макарычу"... Ванька
добѣасалъ до перваго почтоваго ящика и сунулъ туда драгоцѣнное письмо...
Убаюканный сладкими надеждами, онъ, часъ спустя, крѣпко спалъ...
Эта трогательная исповѣдь ребенка, брошеннаго судьбой въ подвалы на-
шихъ столичныхъ и вообще городскихъ мастерскихъ, производить тя-
желое впечатлѣніе. И въ такой жизни проходятъ не годъ, не два, а
можетъ быть, пять-шесть лѣтъ, пока мальчикъ не станетъ подросткомъ,
юношей, способнымъ отмахнуться и словомъ и дѣломъ отъ насмѣшекъ
и колотушекъ подмастерьевъ... До какой степени безпросвѣтна эта жизнь
мастеровщины, отданной въ „ученье" съ дѣтскихъ лѣтъ, можно судить
по одному изъ любопытныхъ монологовъ-рѣчей Перфишки сапожника въ
повѣсти Горькаго: „Трое". — „Житье-то?—говорить Перфишка окружив-
шимъ его ребятамъ, готовившимся пойти по той же ремесленной дорогѣ
мѣщанской бѣдноты,—все улучшается! Все пріятнѣе жить человѣку годъ
отъ года. Я въ ваши годы, бывало, только со шпандыремъ бесѣды велъ.
Начнетъ это онъ меня по спинѣ гладить, а я отъ удовольствія вою, что
есть мочи. Перестанетъ онъ —спина обидится, надуется и ноетъ, по ми-
ломъ другѣ тоскуетъ. Ну, онъ долго себя ждать не заставлялъ,—чув-
ствительный былъ шпандырь! Да! Только всего удовольствія видѣлъ я,
ей Богу! Вотъ вы теперь выростете болыпіе и будете все это вспоми-
нать... разговоры, случаи разные и всю вашу пріятную жизнь. А я вотъ
выросъ,—тридцать шестой годъ мнѣ,—а вспомнить нечего! Ни одной
искры! Совсѣмъ нечего вспоминать. Въ родѣ какъ бы слѣпъ и глухъ
былъ я въ ваши годы. Только и помню, что во рту у меня всегда зубы