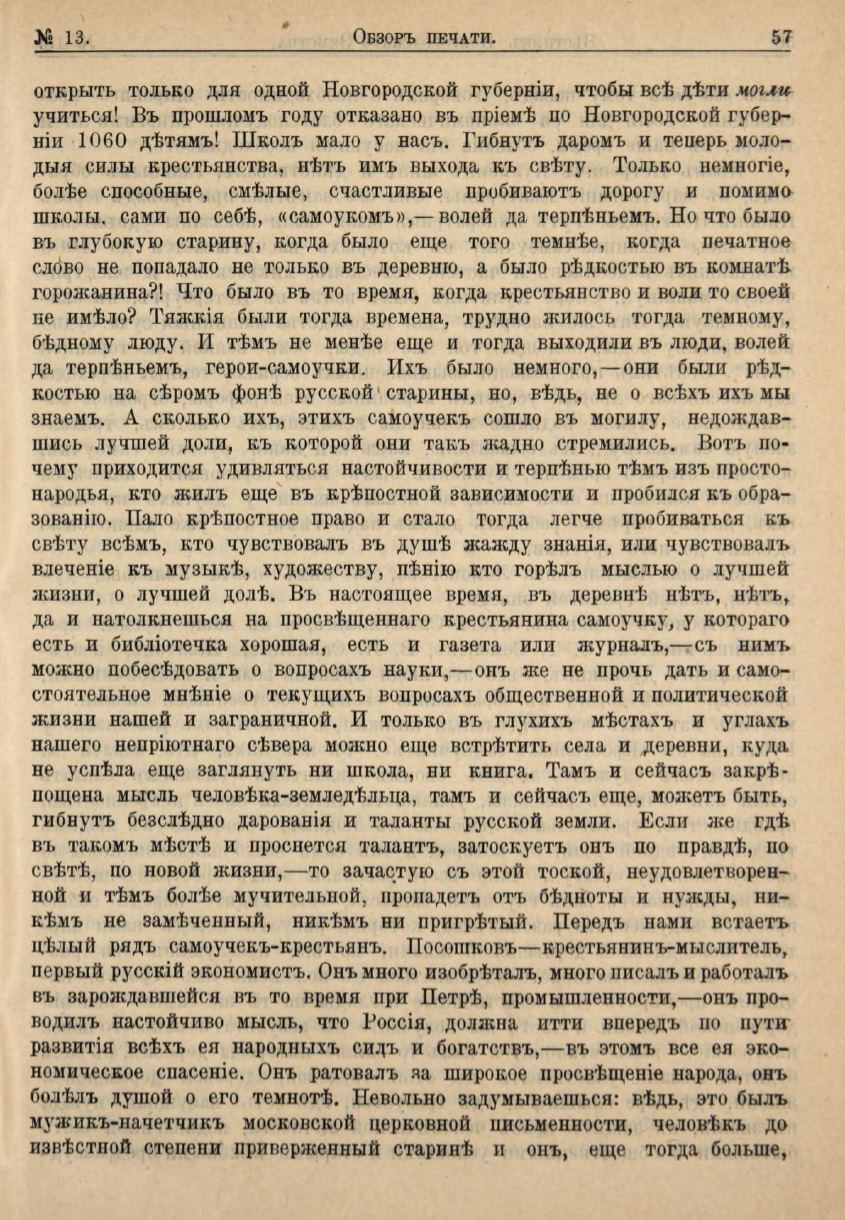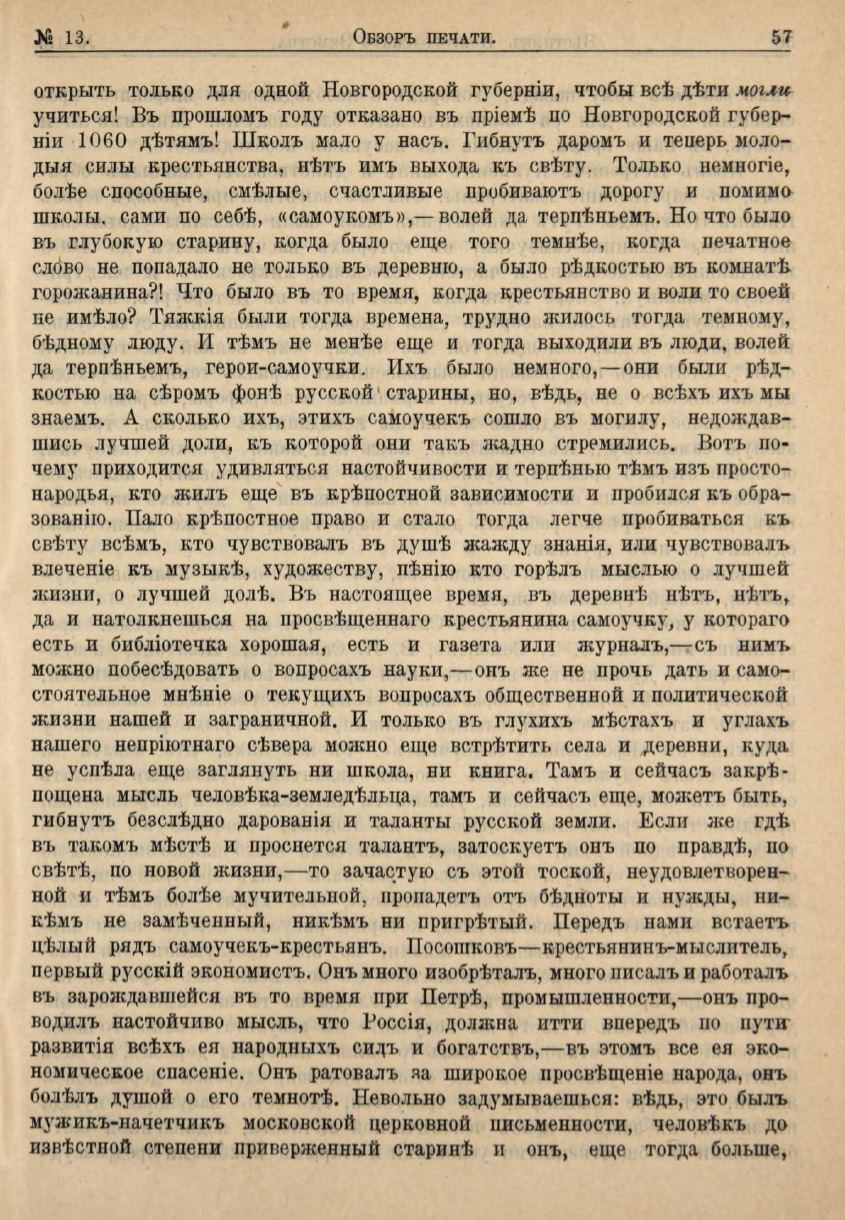
Кг 13.
ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ.
57
открыть только для одной Новгородской губерніи, чтобы всѣ дѣти
могли
учиться! Въ прошломъ году отказано въ пріемѣ по Новгородской губер-
ніи 1060 дѣтямъ! Школъ мало у насъ. Гибнуть даромъ и теперь моло-
дыя силы крестьянства, нѣтъ имъ выхода къ свѣту. Только немногіе,
болѣе способные, смѣлые, счастливые пробиваютъ дорогу и помимо
школы, сами по себѣ, «самоукомъ»,— волей да терпѣньемъ. Но что было
въ глубокую старину, когда было еще того темнѣе, когда печатное
слОво не попадало не только въ деревню, а было рѣдкостью въ комнатѣ
горожанина?! Что было въ то время, когда крестьянство и воли то своей
не имѣло? Тяжк ія были тогда времена, трудно жилось тогда темному,
бѣдному люду. И тѣмъ не менѣе еще и тогда выходили въ люди, волей
да терпѣньемъ, герои-самоучки. Ихъ было немного, —они были рѣд-
костью на сѣромъ фонѣ русской старины, но, вѣдь, не о всѣхъ ихъ мы
знаемъ. А сколько ихъ, этихъ самоучекъ сошло въ могилу, недождав-
шись лучшей доли, къ которой они такъ жадно стремились. Вотъ по-
чему приходится удивляться настойчивости и терпѣнью тѣмъ изъ просто-
народья, кто жилъ еще въ крѣпостной зависимости и пробился къ обра-
зованно. Пало крѣпостное право и стало тогда легче пробиваться къ
свѣту всѣмъ, кто чувствовалъ въ душѣ жажду знанія, или чувствовалъ
влеченіе къ музыкѣ, художеству, пѣнію кто горѣлъ мыслью о лучшей
жизни, о лучшей долѣ. Въ настоящее время, въ деревнѣ нѣтъ, нѣтъ,
да и натолкнешься на просвѣщеннаго крестьянина самоучку, у котораго
есть и библіотечка хорошая, есть и газета или журналъ,—съ нимъ
можно побесѣдовать о вопросахъ науки,—опъ же не прочь дать и само-
стоятельное мнѣніе о текущихъ вопросахъ общественной и политической
жизни нашей и заграничной. И только въ глухихъ мѣстахъ и углахъ
нашего непріютнаго сѣвера можно еще встрѣтить села и деревни, куда
не успѣла еще заглянуть ни школа, ни книга. Тамъ и сейчасъ закрѣ-
пощена мысль человѣка-земледѣльца, тамъ и сейчасъ еще, можетъ быть,
гибнутъ безслѣдно дарованія и таланты русской земли. Если лее гдѣ
въ такомъ мѣстѣ и проснется талантъ, затоскуетъ онъ по правдѣ, по
свѣтѣ, по новой жизни,—то зачастую съ этой тоской, неудовлетворен-
ной и тѣмъ болѣе мучительной, пропадетъ отъ бѣдноты и нужды, ни-
кѣмъ не замѣченный, никѣмъ ни пригрѣтый. Передъ нами встаетъ
цѣлый рядъ самоучекъ-крестьянъ. Посошковъ—крестьянинъ-мыслитель,
первый русскій экономистъ. Онъ много изобрѣталъ, много писалъ и работалъ
въ зарождавшейся въ то время при Петрѣ, промышленности,—онъ про-
водилъ настойчиво мысль, что Россія, должна итти впередъ по пути
-
развитія всѣхъ ея народныхъ сидъ и богатствъ,—въ этомъ все ея эко-
номическое спасеніе. Онъ ратовалъ за широкое просвѣщеніе народа, онъ
болѣлъ душой о его темнотѣ. Невольно задумываешься: вѣдь, это былъ
мужикъ-начетчикъ московской церковной письменности, человѣкъ до
извѣстной степени приверженный старинѣ и онъ, еще тогда больше,